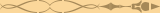Исследование эмигрантской прессы 19191939 гг.
Исследование эмигрантской прессы 19191939 гг.
Русскоязычный человек в иноязычном окружение - Е. Протасовой
Исследование эмигрантской прессы 1919-1939 гг. может осуществляться по разным направлениям. Я сосредоточусь на обосновании изучения лингвопрагматических особенностей по некоторым, с моей точки зрения, интересным и актуальным аспектам. Эмигрантская публицистика предстаёт как своеобразное зеркало, «отражающее» жизнь (и соответственно язык) русских в рассеянии. По моим наблюдениям, основанным на выписках из эмигрантских газет, журналов, листков разной политической направленности, изданных в 1919-1939 гг. (здесь я не привожу достаточно обширный список проанализированных мною источников, ограничусь лишь указанием на свою картотеку, насчитывающей около 1 000 000 словоупотреблений), прагматические (в широком смысле) особенности русскоязычной прессы определяли характер построения высказывания, графические, лексические, орфографические и иные способы языкового выражения. Эти особенности можно сфокусировать таким образом: эмигрантская публицистика 1) как «зеркало» самоидентификации, 2) как показатель и критерий адаптации, 3) как «зеркало» интенций (намерений). Эти аспекты присутствуют в эмигрантских изданиях в разной пропорции: в анархических и левокоммунистических газетах ведущими являются 2 и 3 аспекты, в монархических
- 1 и 3, в либерально-демократических - 1 и 2.
1. Публицистика как «зеркало» самоидентификации. Я рассмотрю данный аспект на примере нескольких важных категорий в эмигрантской прессе:
а) самоименование. Одной из самых больших трудностей, с которыми столкнулись русскоязычные, оказавшись за границей, были не только материальные лишения, но и стремление понять, обозначить свое место, свой статус, свою роль как в собственных глазах, так и в общественном мнении стран, принявших русских беженцев; одним словом, проблема Имени, (само)именования встала перед ними в полный рост. Почти 20 лет русскоязычные отказывались от именования «эмигрант», видя в нем негативный смысл, поскольку после 1917 года активизировались либо ассоциации с кровью (Французская буржуазная революция 1789 г.), либо с революционным подпольем (в царское время большевики-эмигранты подолгу жили за границей). Только в конце 20-х - 30-е годы XX века, преимущественно в среде русской колонии во Франции, стал употребляться термин «эмигрант» в качестве обобщающего обозначения вместо старых самоименований «беженец», «скиталец», «русские в рассеянии», «беженство», «скитальчество», «обладатели нансеновских паспортов» (временных удостоверений личности, заменявших паспорта для лиц без гражданства (апатридов) и беженцев; были введены Лигой Наций по инициативе Ф. Нансена (отсюда и название); выдавались на основании Женевских соглашений 1922 г. впредь до приобретения нового гражданства их владельцами; лица, имевшие такой документ, могли быть допущены на территорию любого из государств - участников Женевских соглашений) и под.; в дальнейшем термин «эмигрант» широко распространился в русском рассеянии по всему миру. В поле внимания русских беженцев попали и такие термины, как «белогвардеец, золотопогонник», которые стали важными идеологическими маркерами в советском политическом и языковом дискурсе 20-30 гг. XX в. (подробнее см. [Зеленин 1999а]);
всеУчебные заведения
|
3-й
105064, Москва, Гороховский пер., 4; телефон приемной комиссии: +7 (499) 261-31-52.
|
4-й
Вадковский переулок, 1. Тел.: (499) 973-30-76.
|
|
3-й
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6 Телефон: 8 (812) 329-71-35.
|
5-й
191023 г.Санкт-Петербург улица Зодчего Росси дом 2 Телефон: + 7 (495) 629 70 62; +7 (495) 629 78 58
|


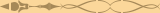 68
68